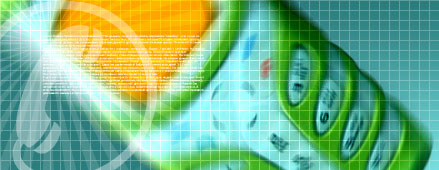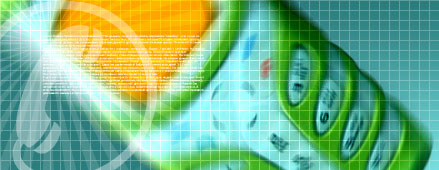| Замотанная в взъерошенные, неулежавшиеся с утра тряпки бывшая женская фигура прорисовалась на гниловатой верней ступеньке крыльца отделения милиции посёлка Редькино и, решившись, заскреблась в крашеную военно-морской «шаровой» краской линкорной брони дверь, густо шмыгнула носом, сделала умильное лицо в глазок-бойницу, словно ожидая вылета мифической птички.
Пятница. Исполнение желаний.
Павел Аркадьевич с детсадовского горшка облупленного аккуратен, и теперь, хоть и в статусе врача-расстриги, привычки не меняет. Старого кобеля новым штукам не обучишь.
Расположил каталку под бестеневой лампой, подвигал рукояткой, фокусируя свет на животе. Освещенное пятно как-то по больничному оранжево желтело, будто смазанное йодом операционное поле. Анатолий пошевелил пальцами на ногах. Павел Аркадьевич, похвалил себя мысленно за предусмотрительность, начал «фиксировать больного» петлями полотенец к хромированным скобам. Свободно, кровообращение не нарушается, но ни руку, ни ногу не вырвать из вафельных кандалов. Травму больной себе не нанесёт и не денется никуда. Не высший пилотаж, но надёжно. Старые санитары одной простынёй, как фараона пеленали, любо дорого взглянуть. Под кожей предплечий ветвились голубые жилки, левое пересекал тонкий, ниточкой белёсый шрам.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ, 4. Разг. Крайний, предельный в своём проявлении, очень сильный. Смертельный ужас. Смертельная обида. Он Тихон Ильич‹ очень загорел, похудел и побледнел, чувствовал смертельную тоску во всём теле. И.Бунин. Деревня. Впервые в жизни я испытал красоту и отчаяние небывалого шторма. К.Паустовский. Черное море.
Вот человек суетной, жизни себя лишал. Вены резал. Кому суждено быть повешенному не утонет. Что он старухе сделал, смерть лютая за что? У Бога своего любимую игрушку отняла, не побоялась. Смерть. «…как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Перед концом спрошу её, заинтриговала, Извергиль. Чем то мы похожи. С моими мозгами академией медицинских наук заправлять, или на эстраде. Любую книгу, со строчки любой, дословно. Не срослось как-то. С первого взгляда ненавидит родимое начальство. Впервые в кабинет вхожу, аж ёрзает, как бы чего не дать ненароком, выдвинуться не позволить. Лицо у меня умное, глаза. Вроде жирафа я получаюсь. Здоровенный. Красивый, на всех свысока кивает – царь зверей форменный, а на хрен никому не нужен. Шкура выделке не поддаётся, мясо даже гиены не жрут. «Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер». Зло должно прийти в мир, но горе зло приносящему. Умный я, а теперь и богатый, не будет горя. Дверь звуконепроницаемая, но подстраховаться не мешает. Бинт затолкаю, не разворачивая 7 на 14, сверху повязку. Чтоб языком не вытолкнул, мычи в своё удовольствие, не отказывай себе ни в чём.
Павел Аркадьевич придвинул к каталке стеклянный столик на колёсиках, достал саквояж, выложил ровным рядком скальпель, крючки и зажимы. Чемоданчик раритетный, шикарный. Докторский саквояж не нынешний. С таким только на пролётке пыхтеть земским Ионычем по сбору трёшек. Зоя вручила торжественно, ну спасибо. Осторожно достал маленький поллитровый термос с красной эмалевой розочкой. Термос поместил на нижнюю полочку.
Серная кислота стекло не проест, не капнуть бы на что лишнее. Попросила лицо и пальцы не трогать, ох заковыристая старушка, верчёная. Лучший, выходной гардероб на мне, если срочность какая образуется. Только подпоясаться. Дырок не прожечь.
Ладонью сверху вниз, легонько провёл по животу лежащего, до курчавых волос. Под тонкой кожей мелко подрагивают мышцы. Чувствует, ощущает спасибо доктор Фионик, вовремя вылечил, как на заказ. Дорога ложка к обеду. Приятно пощупать. Может я гомик? Они жестокие все, сентиментальные. Латентный гомосексуалист. С женщинами как-то не очень у меня. Грязные. Идёшь по коридору институтскому, от всей толпы кислятиной менструальной крови несёт, сквозь духи. И ещё мягко-жидкие, болтается всё. В детстве воздушный шарик водой нальёшь, вот так тошнотно колышется. Руки у меня красивые, пальцы длинные. Как у пианиста, или хирурга. Пианист онанист. У онанистов ладони шерстяные, детские страшилки. Попробовать гомиков поискать, родственные души? В катькином саду они кучкуются. Или у казанского? Нет, там фашисты. Вот перепутать. Как они девочек и мальчиков различают? Я, наверное, «девочка». В студентах случилось заночевать приятелю. Хозяин на диване, он на полу, на матрасе. Крепкий такой. Захотелось, чтоб обнял. Сзади. Почувствовать его внутри, поглубже, раздвинул бы до боли. Заробел, только ворочался всю ночь. А он дрыхнет себе, село.
Исполнение желаний. Продолжение.
Пьяный весенний воздух ударил Эдику в ноздри. Несмотря на июньскую жару и навязчивый тополиный пух в его весенней расцветающей душе распускались незабудки. Стоя перед стеклянными воротами вестибюля метро в изящном двубортном костюме строгого кроя из бурого мохнатого больничного одеяла с выглядывающем из накладного грудного кармана уголком платочка (ничего другого в карманах не было), он был уверен в себе и своём лучезарном будущем в этом лучшем из миров. Его экологическая ниша была свободна. Мир принадлежал женщинам, а он любил их, любил всех, просто за то, что они есть, красавицы и дурнушки, учёные синие чулки и бессмысленные хохотушки, такие разные, но удивительные каждая по своему. Беспаспортный, бездомный и нищий как Иов Эдик хотел только одного, он хотел женщину. О, они ценили его преданность и сторицей воздавали за бескорыстно пущенный по водам хлеб, жалели, обихаживали и терпимо относились к промискуитетным наклонностям. Только однажды…, Эдик сморщился, как от зубной боли. Никогда, никогда больше ни одной врачихи. Первое, что он теперь будет узнавать о женщине, ещё до знакомства, даже до первой ночи – её профессиональную принадлежность. Пусть их Гиппократ … любит, раз клялся. Эдик вздохнул, прогоняя наваждение и посмотрел под ноги, на асфальте (орлом вверх – хорошая примета) лежал тусклый пятак. «Площадь восстания» и сиреневый вожделенный скверик через остановку метро. Жизнь продолжалась.
Александр Михайлович был потрясен, раздавлен и вероятно даже растроган, если бы напрочь не забыл, как выглядит последнее чувство вне рамок художественного вымысла. Случилось исключительное, беспрецедентное в его карьере симулянта и мелкого жулика. К нему, одинокому волку, зализывающему раны в логове, вдруг заявилась депутация, стадо не так давно им собственноручно стриженых овец. Киногруппа чуть не в полном составе. С цветами, вкусностями и предложением принять участие в съёмках двухсерийного исторического боевика на революционно-декабристску>ю, верножёносибирскую тему. верножёносибирскую тему. О долгах никто и не заикнулся. Помошник режиссёра даже вручил Саше экземпляр сценария толщиной в силикатный кирпич, вещь совершенно бесполезную, разве что для мягкости подложить, так как Александру Михайловичу по роли предстояло бессловесно рухнуть с лошади и опять же молчком, благородно скончаться. Александр Михайлович, как ушастый полярный филин гибко повертел головой, вглядываясь в лица, и вдруг как-то сразу во всё поверил, застенчиво потупился, заулыбался, нашаривая в пижамном кармане потный орден Станислава четвёртой степени. Он всё же умудрился растрогаться до такой степени дезориентации во времени и пространстве, что тут же попросил в долг у самого мэтра, долго, до слёз хохотавшего и хлопавшего Сашу по упитанным пижамным плечам.
На расплавленном асфальте глухого окраинного бульвара огромный оранжевый карьерный самосвал, заехав правыми колёсами на тротуар, высоченным горбатым кузовом наломал веток раскидистой черёмухи, густо в жаркое и сухое лето заплетённой сеткой серебристой паутины. Пахло соляркой, разогретым железом, наломанной черёмухой. В кабине скучный водила с беломориной в углу рта от нечего делать пялится на фотографическую ретушь генералиссимуса И.В.Сталина, прилепленную к лобовому стеклу. Наташа, аккуратно в тугих трубочках джинсов боком ставя ногу на железную лесенку, забралась в кабину, с размаху шлёпнулась диванную горячую кожу сиденья. Водитель покосился, рук с баранки не снял.
- Куда едем, барышня-красавица? Если на юга, то звиняйте, мы к другому океану. А то, Мурманск устроит? К самым волнам подкатим.
- Поедем, поедем. Погодя немного. Не торопись дядя, ты что стахановец, Мамлакат хлопкоуборочная?
Наташа как баянные кнопочки перебрала пуговицы ширинки, ловко выпростала немаленький шоферской член, чуть сжала для пробы. Стоя на лесенке, в дверь наполовину просунулся водила-сменщик в серой растянутой майке на потной безволосой груди, шумно втянул носом воздух.
- Только джинсы не лапай. С белого мазутные ваши лапы не отстираешь потом.
Не оборачиваясь, проворковала Наташа и, опёршись грудью на колени шофёра, вильнув бёдрами, выскользнула из тесной шершавой ткани, спустила джинсы до колен. На ягодицах спело зарозовели солнечные зайчики, щекотно пробираясь сквозь искружавленную гусеницами листву черёмухи. Наташа взяла руку водилы, под блузой упёрла в ладонь сосок.
- Сожми сильно, чтобы больно. Не трусь, не раздавишь.
Сменщик поставил бидон с пивом на резиновый коврик пола. Повёл рукой по ложбинке между ягодицами, указательным пальцем заехал в горячее, мокрое, ребром ладони ощутил влагу на бедре. Втянулся, наконец в кабину полностью, клацнул тяжёлой дверцей.
С карточки недоброжелательно в профиль скосился, сощурился вождь.
«Генеральная ассамблея ООН приняла решение о включении в повестку дня своей текущей сессии вопроса о введении всеобщего моратория на смертные казни. Обсуждение этого вопроса должно состояться в рамках Третьей комиссии (по правам человека)».
Зоя Фёдоровна выкроила заметку маникюрными ножницами, нахмурилась было на неровные края, ничего, не в альбом тургеневской барышне. Намазала не жалея силикатного клея. Через некоторое время бумага пожелтеет, но читабельность текста законсервируется на годы. Сколько их осталось годов то этих. Зоя завязала папку с вырезками, сняла «бабушкины» очки в тёмной оправе, положила на вишнёвую скатерть. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Были глазки, ох были, очи чёрные, жгучие, да все вышли. Разведчицы они ведь не пистолетом орудуют, другими инструментами природа их снабдила, не Мата Хари конечно, а есть что вспомнить на старости лет. Рукоделью час, отдыху время. В прихожей дважды дренькнул звонок. У Раи свои ключи, но Зоя просила звонить, не любила, чтобы заставали врасплох; лохматую или заспанную. «В алертной позе, девочка, даже в гинекологическом кресле – моё кредо». Слегка покривилась, вставая. Всю ночь спина ноет, как собаки грызут. В прихожей Рая уже меняла босоножки на домашние тапочки. На столике коробка яркого глянцевого картона. Из игрушечного отдела, за версту видно. У Зои Фёдоровны упало сердце. Рая не терпела кукол до истерики. Даже румяная барыня с чайника давно перекочевала в недра шкафа. Рая посмотрела на опрокинутое Зоино лицо, улыбнулась, подошла, обняла за тоненькую морщинистую тёплую шею.
- Всё хорошо. У меня всё в порядке. Теперь можно. Увидела этого гэдээровского пупса и не смогла устоять. У меня дочка будет, настоящая, маленькая. Не скоро ещё. А этот парень для меня, забыла всё, потренируюсь. Дочке Мальвину куплю, огромную, с неё. В кружавчиках. Я тогда, на кладбище подумала, хотелось очень, надеялась, что Леночка моя куколку свою любимую к себе забрала, в дочки-матери играть. Увидала алкашку на вокзале, поняла, нет её доченьки. Нигде нет. А теперь снова жить начнём, точно знаю.
«Ничего не скажу. Теперь незачем. Светится вся. Нашла видно хорошего человека, оттаяла. Кто бы это? Может доктор? Тоже мужик хоть и на одной ноге, страшный конечно, да с лица не воду пить. А Ирод-садюга, младенцев погубитель пусть своё получит, в муках издохнет. Жаль только, что страстотерпцам зачтётся, хоть и не за веру претерпит. Не могу поверить, что на небо такой может попасть, как он ангелочку замученному в глаза посмотрит. Разве что там, в облаках Бог памяти о земном лишает по милости своей великой и милосердию. Праведных Господь наказывает, а грешников сберегает до судного дня. Некогда мне до судного терпеть. Родит Рая, я помру. Детей своих нет, всё её будет, богатая невеста подрастёт, красавица».
- Знаешь Рая, давно хотела подарить, случая не было, а в такой день не удержусь. Научить тебя понимать в цацках этих не сумела, да и зачем тебе.
Зоя легко сняла, стряхнула массивное, неяркого старого золота кольцо с прозрачным плоским камнем.
- Носи, не снимай, не поцарапаешь. Огранка простая, старинная на шестнадцать, сейчас так не гранят, камень не играет. Стекло и стекло, не догадается никто. Память будет обо мне, доченьке подаришь, или продашь, если прижмёт. Теперь слушай. Говорю не для того, чтобы подарок свой нахвалить, не продешевила чтоб от простоты. Золото на перстне – тьфу. За камень пол дома нашего сталинского, семиэтажного можно купить запросто, а может и весь, если знать, какой человек мне его со своего пальца снял. На мизинце носил, у меня на указательном болтается, уменьшить хотела, не поднялась рука на память. У нас цену имя хозяина первого не прибавит, а в штатах североамериканских, по каталогу – раритет, вроде статуи свободы или моста Бруклинского. Пойдём Рая, сядем, расскажешь всё толком, вижу, не терпится тебе.
Выслушав надоевшие ежедневные «не делай, не ходи, не бери» и поставив лобик под торопливый материнский поцелуй, Леночка Пирожок едва дождалась знакомого щелчка «французского» замка. Заболевшая подруга попросила мать Леночки выйти в неурочную ночную смену, что с одной стороны обещало несколько уменьшить дефицит семейного бюджета, а с другой предоставляло девочке свободный от опеки и от того богатый возможностями день. С чего начинать было ясно. Из прихожей Леночка прямиком прошмыгнула в крохотную кухню, подтянула табурет к кухонному шкафчику и распахнула заманчивые дверцы. "«Бабушкина"» сахарница таинственного тёмно-вишнёвого стекла была на неизменном месте. Среди серо-белых тарелок поцарапанных, с протёртой до коричневой изнанки неумолимым ложечным алюминием глазурью, утративших почти все цветочки, но не гордую надпись ОБЩЕПИТ, сахарница своим видом отрицала нынешнее мещанское окружение и с достоинством несла мельхиоровую крышку, словно дворянскую фуражку. По временам, украшая клеёнчатый стол во время чаепитий, она привычно мерцала глубиной цветного стекла и местами позеленевший ободок даже украшал, придавая раритетную комиссионность, намекая на полочное знакомство с кузнецовским фарфором и другими артефактами позапрошлой жизни. Когда сахарница пустовала, а это случалось не редко, в ней сохранялся неистребимый запах бесчисленных карамелек и долгоиграющих подушечек-обсыпок, находивших в ней временное пристанище. Леночка любила иногда просто снять увесистую крышечку и сунуть носик в душистую баночку. Сахарница была полна, Леночка заправила «долгоиграющую» за щёку и быстро восстановила на кухне порядок. Дальнейшее представлялось не столь очевидным. Леночка улеглась грудью на подоконник и, перекатывая за щекой сладкий комочек, задумалась. За пыльными стёклами стоял бесконечно длинный день летних каникул, втиснутый в чахлый садик между двумя трёхподъездными трёхэтажками силикатного кирпича. Наискось протоптанную между скрипучими качелями и песочницей дорожку занятой своей взрослой жизнью человек проскакивает за минуту, прокручивая в голове заботы-неприятности. Ни за что не вспомнит, что в далёком детстве, когда земля была вдвое ближе к глазам, подробнее, в таком пустом и скучном вроде бы месте можно было провести беззаветно весь длиннющий день до зычного в прохладных сумерках муэдзиновского материнского призыва из форточки. Принести домой свежие царапины, чёрный несмываемый сок одуванчика, краски, запахи, восторги и дворовые драмы в сбивчивом пересказе с неизменно счастливым концом утёртых мамой слёз. Блажен, кто вовремя созрел, сто крат блаженнее помнящий себя ребёнком, не события сознание бесконечности себя в добром полном подробностей мире. Вернуться не дано никому, и в этом справедливость неизречённая.
Восьмилетняя Леночка со смешной фамилией Пирожок, доставшейся ей от мамы, и отчеством Марковна, послушно проштемпелёванным ЗАГСом по её же достоверной информации, после непродолжительных колебаний решила начать со встречи с подругой из соседнего дома, справедливо рассудив, что проблема дальнейшего времяпрепровождения будет решена успешнее в столкновении мнений. Сама она склонялась к созданию крепкой семейной ячейки типа дочки-матери в укромном уголке среди кустов акации и высокой травы, но готова была выслушать и другие предложения. По неизъяснимой прихоти коммунальных судеб квартиры хронических алкоголиков, дворников и перебивающихся между денежными выдачами матерей одиночек неизменно снабжены телефоном. Леночка проворно накрутила коротенький местный номер и договорилась с подругой Юлей о встрече на нейтральной территории во дворе. Жизнь подруги протекала сложнее, доза получаемой ею опеки троекратно превосходила таковую у дочери неизвестного ЗАГСу в лицо Марка. У Юли была мама, долговременный папа и неработающая бабушка, в данный момент некстати озадачившая внучку приобретением хлеба насущного. Хлеб добывался местным населением в булочной на центральной улице Зеленодольска оригинально поименованной проспектом Ленина. Поход в обе стороны, мороженое в бумажном стаканчике (в вафельном быстрее) и прочие регулярные непредвиденности требовали не менее получаса, что неизбежно на тот же срок откладывало куклёж во дворе. Дамы, решив основной вопрос, перешли к обсуждению животрепещущей темы, касающейся отношений с одной их общей знакомой. Почему она не желает с ними водиться и как устроить малопочтенной личности достойную обструкцию. Проблему пришлось отложить до личной встречи, так как раздался звонок в дверь. Леночка, шлёпнув трубку на рычаги, побежала в прихожую и быстренько сдвинула шишечку «французского» замка. Она отлично управлялась с космополитическим аппаратом повышенной секретности и частенько, возвращаясь из школы и не найдя плоского ключа под ковриком, открывала замок значком или концом линейки. Мать девочки очень удивилась бы, узнав, что где-то там, в большом городе есть люди в силу своего повышенного благосостояния снабжающие двери цепочками и даже глазками для разглядывания потенциальных посетителей. Леночка потянула дверь на себя, замок несолидно щёлкнул некалёными своими железками, открывшаяся дверь дохнула духотой и кошками. Открытая дверь, тьма внешняя, зло и смерть.
ЖИЗНЕННЫЙ, прил 2. Связанный с жизнью, действительностью, типичный для неё, отражающий реальную действительность. Художник огромной жизненной правды. Стихи могучей жизненной силы. Сказку хвалили, хотя кое-кто и говорил, что она несколько искусственна, что даже в сказках надо исходить из реальности, из подлинных и интересных жизненных случаев и явлений. К.Паустовский. Секвойя. Несмотря на обилие деталей декорации Янова были недостаточно жизненными и характерными. Ф.Сыркина. Русское театрально-декорационное искусство второй половины ХХ1 века. Образу явно не хватало живых, жизненных красок. Из периодики.
Вошь безусловно предпочтительнее блохи, это зверь солидный, привычки имеет постоянные, недаром ПОСТОЯННЫЙ эктопаразит. Блоха и есть блоха Pullex irritans, временный эктопаразит, цирк блошиный, попрыгунья. Мёртвого хозяина блохи бросают и ищут нового, чем собственно и объясняется быстрое распространение чумы. Вши строго специализированные паразиты. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Pediculus humanus capitis нарёк её. Хуманус, а не обезьянус какой-нибудь. Блохе что голова, что задница, а вошь головная будет капут грызть, оголодает, сдохнет, а на лобок не переквалифицируется. Принципиальный зверь полевой. Весь жизненный цикл вши проходит на хозяине. Вне хозяина вши встречаются случайно и живут недолго, лебедь прямо какая-то. Стыдится блоха, розовеет ланитами, изменщица. Питаются вши часто, небольшими порциями (долго голодать не могут). Самцы пьют несколько меньше самок, зато самки живут до тридцати восьми дней, а самцы лишь двадцать семь.
Вошь самец, половозрелая особь, имаго. Хобот, солидный наружный половой аппарат. Три пары мощных цепких ног попирают клешнями чешуйчатые бугры бесконечной равнины, уверенно несут десятичленниковое брюшко. Осязательные щетинки иногда касаются гладких стволов. Брюшко сосуще сморщилось. Пища, тёплая пища везде, прямо под коготками клешней по тончайшим трубочкам, раздвигая эластичные стенки, протискиваются двояковогнутые диски. Хоботок раздвигает податливые волокна, и восхитительные комочки всасываются пищеводом, растягивают его, распирают членики брюшка. Двадцать семь дней бессонного безвременья, вечность. Сытость, запах самки. Тишина, темнота. Запах ближе. Блаженная жизнь без боли, без смерти.
Переход Суворова через.
Константин Суворов по прозванию Днепрогэс был бомжом. Бомжом по решению судьбы и сложившемуся мировоззрению, а был, потому что умер.
Замотанная в взъерошенные, неулежавшиеся с утра тряпки бывшая женская фигура прорисовалась на гниловатой верней ступеньке крыльца отделения милиции посёлка Редькино и, решившись, заскреблась в крашеную военно-морской «шаровой» краской линкорной брони дверь, густо шмыгнула носом, сделала умильное лицо в глазок-бойницу, словно ожидая вылета мифической птички.
К цельнокованому косяку двери было привешено собственно здание милиции, субтильное дощато-щитовое, облезло тёмно зелёное строение, притулившееся на крутом повороте шоссе. Архитектурными излишествами оно живо напоминало домик Нуф Нуфа, на скорую руку изготовленный к обороне, тем более, что на крыше зазывно белела широченная, силикатного кирпича труба, послужившая бы украшением любого крематория. Окна тоже были, но какие-то невыразительные, незаметные по фасаду из-за близости подколёсной грязи снаружи и до слюдяной непрозрачности прокуренные изнутри. Сам Нуф Нуф на крыльце отсутствовал. Надоело ему мокнуть под мелкой въедливой октябрьским моросью, не маячила на крыльце обеременная, в смысле обрюхаченная, бронежилетом фигура с игрушечным по размеру и мушкетонному раструбу ствола автоматом на пузе и по-американски болтающимися вокруг румяной физии завязками каски. В нарушении инструкции сержант выездного наряда сидел за канцелярским столом, замещал временно отсутствующего дежурного и развлекался бесплатным стриптизом, устроенном в обезьяннике залетевшей в неурочный утренний час наркоманкой. Тимофей Петрович Яценко напряжённо оценивал вероятность неполучения одного из двадцати пяти заболеваний передающихся половым путём против сомнительного удовольствия (шоу дошло до самых интересных мест), но копошение за дверью засёк и квалифицировал профессионально. Тревогу поднимать, отрывать товарищей от конспектирования решений двадцать шестого съезда КПСС в комнате инструктажа под разъятым на органы ПМ Макарова, судорожно прятать стаканы необходимости не было. Если начальство и стучит, то басом, не скребётся норушкой. Маханув дверью, отчего дама на крыльце совершила сложный пирует, но удержалась на достигнутой высоте, Тимофей Петрович мгновенно оценил положенную дозу вежливости с заявителями.
- Ну и?
- Днепрогэс помер- с готовностью выпалила посетительница.
- А дубиной ?- ласково, но без рвения, к слову, прибавил Тимофей, ассимилировавшийся за долгие годы и ощущавший незалежность смутным необязательным для реагирования атавизмом.
- Днепровскую ГЭС, Галя, немцы уничтожить не сумели, железнодорожный состав взрывчатки заложили, а выстоял.
- Суворов, я говорю, Константин умер. Убрать бы его куда.
- Ритуальная контора, Галя- безнадёжно, понимая неотвратимость выхода в мозглый свет начал сержант- пашет круглосуточно, может твоего Костю после смерти трудоустроят, профармалиненного будут студенты полосовать, хоть какая-то польза. Ты на тело не претендуешь, родни нет у него прямая дорога в мединститут. Он кто был то?
- Электрик он был в раньшей жизни, как провода увидит, аж трясётся.
- Меня, говорит, током не бьёт, током того бьёт, кто пятки часто моет.
До последнего пристанища Кости Днепрогэса – финского бетонного погреба в прибрежном лесочке, к лесу передом, к заливу задом, чем и отличался его дизайн от маннергеймовских укреплений добрались минут за пятнадцать. Сначала по шоссе, причём сержант, предвкушая финальный отрезок пути, уже на асфальте при каждом шаге тянул ботинки как из трясины, затем по скользкому увалу между раскисших лесных колей. Прели высоченные иудины осины красные ольховые пеньки пахли ожиданием быстрой зимы. Глянцевая водяная, свисающая с веток кожица готовилась стать наледью. Ватно в утреннем непросыхе каркнула и заткнулась ворона. Дёрнув набухшую дощатую дверь и скребанув каской по притолоке, сержант протиснулся в погреб, зажмурился и, сквозь плавающие радужные круги, понял почему Костя Днепрогэс. Пять стосвечёвых ламп заливали сиянием мерзость человеческого логовища. Куча развороченных тухлых тряпок постели, разнокалиберные покрытые прогорклым жиром кастрюльки, многоспиральный «козёл» с какими-то портянками на просушке воняли хором на пределе обонятельной возможности и только из-за оглушающей мощи зловония дышать в раскалённой берлоге было всё таки возможно.
-
|